
Борис Кудесник у стола. Горит настольная лампа. Несколько книг. На обложке одной - золотом: «Теория плазмы». Борис листает. Две женские руки ложатся ему на плечи:
- Закрой свет газеткой, Мишка ворочается...
Борис ставит газету у лампы, щекой проводит по руке.
И руки слетают с плеч...
Виктор Бойко идет домой темным переулком. У булочной выгружают свежий хлеб, и Виктор останавливается, вдыхая вкусный, теплый и добрый запах. Лотки быстро исчезают в окошке, один за одним...
- Можно купить один батон? - спрашивает Виктор.
- Или проголодался? - с иронией говорит грузчик.
- Нет... Но пахнет хорошо...
- Духи купи себе и нюхай, - уже зло говорит грузчик.
- Я заплачу...
- Не видишь, что ли, закрыта булочная. Виктор не уходит, молча стоит и нюхает хлеб...
Большой зал филармонии заполнила нарастающая, бьющаяся в едином четком ритме дробь барабана. Болеро Равеля. Глаза Маевского закрыты, ресницы вздрагивают и волнуются, а барабан все бьет и бьет... Лицо у Маевского напряженное. Он совсем не похож на того Маевского, которого знают все.
Сергей Ширшов сидит в майке и в трусах на постели Совсем темно. Встает. Босиком выходит в темный коридор и приоткрывает другую дверь. Тоже темно.
- Батя, ты спишь? - шепотом спрашивает он.
- Что тебе? - отвечает женский голос.
- Ма, я женюсь! - выпаливает Сергей.
- До утра потерпеть не мог?
- Нет, я правда женюсь!
- Ты никак выпил? - с тревогой спрашивает мать...
Три рюмки сошлись, чокнулись.
- И все-таки, что значит для тебя заниматься наукой? - с пьяной настойчивостью спрашивает Игоря Редькина Жорка, старый школьный друг.
- Для меня? Ну, как сказать... - Игорь вертит в пальцах рюмку. - Удовлетворять собственное любопытство за счет государства! И махнул водку в рот.
- Не пижонь, - строго говорит Жорка. - Ты понимаешь, о чем я говорю. Зачем нам Луна, Венера, Марс? На кой хрен?
- Кому это «нам»? - строго спрашивает Игорь.
- Мне, тебе, Васе, всем.
- Ты упрощаешь, - вяло говорит Вася. - Пойми...
- Ничего он не упрощает, - резко перебивает Игорь. - Он мещанин. Ему нужна конура, подбитая плюшем, куриный бульон и лакированные штиблеты за Пять рублей?!
- А почему из-за каких-то лунников я должен платить за штиблеты тридцать рублей?!
- Считай, что разницу ты заплатил за билет в эпоху! Плацкартный билет!
- Только без демагогии...
- Да замолчи! Сотни лет люди смотрели в небо, мечтали... Луноград - это такая же гордость наша, как твой Рублев, как Василий Блаженный, как «Аврора»... Давай загоним американцам Третьяковку, а? Ведь купят! И хорошие деньги заплатят! И почему это мы не обменяли в войну Рублева за свиную тушенку? А? Ужасно, что это говоришь именно ты! Ужасно, ужасно... Кстати, почему ты пишешь картины, а не разводишь коров? Штиблеты делают из коров...
- Отлично! - крикнул Жорка. - Мы договорились до отрицания искусства!
Игорь словно и не слышал этих слов.
- У Толстого в «Аэлите» летят на Марс в двадцатых годах, - говорит он задумчиво. - Помните, Гусев ходил в солдатских обмотках. А сейчас наша станция работает на Луне. Там живут люди. Подумай: люди живут на Луне. Нет, ты, пожалуйста, еще раз вдумайся в смысл этих слов: люди живут на Луне. На Луне! Вася, когда я думаю об этом, у меня комок в горле, плакать хочется... Это грандиозно, Васька! Неужели он не понимает?
- Кончайте, ребята, - устало говорит Вася. - Давай по последней...
И он начал разливать остатки водки, примериваясь, чтобы всем досталось поровну...
А в темном - одна грязная лампочка - подъезде Раздолин, взяв в ладони прекрасное светлое лицо Нины, почти кричит:
- Я люблю тебя, понимаешь?! Я тебя люблю! Люблю! Люблю!

Маленький, уже знакомый нам кабинет Главного Конструктора. Ему предстоит разговор с космонавтами. Звонили из Москвы, из штаба ВВС, просили все им объяснить.
Говоря откровенно, Главному было в общем-то все равно, кто полетит на» Марс. Он полностью доверял людям, занятым хлопотливым делом подготовки космонавтов, и понимал, что из сотен парней, крепких душой и телом, можно отобрать несколько лучших. А потом - лучших из лучших. Такой выбор был уже сделан, и он согласен с ним. Вся тройка ему нравилась. Нравилось ему и то, что Агарков, Воронцов и Раздолин были очень разными, непохожими друг на друга. Вот они сидят перед ним, все трое, выбритые, подтянутые, очень молодые и уже поэтому красивые. Сидят и не знают, что лететь придется только двоим. Кому? У него нет права выбора. Но он хотел бы сделать такой выбор для себя. Не только для того, чтобы при случае «иметь свою точку зрения», но просто для того, чтобы проверить свой опыт и свое умение разбираться в людях. Он считал, что обладает этим умением. (Кстати, он им действительно обладал.)
Вот Воронцов. Он самый старший. Молчаливый. Видимо, упрямый. Широк в плечах, мускулист, но легок, пластичен. Волгарь, ульяновский. Хорошее русское лицо. У носа в скулах пробиваются веснушки. А нос чуть картошкой, но чуть-чуть. Лохматые брови, глаза с рыжцой. Блондин? Да вроде нет. Среднерусской светлой масти... Вот Раздолин - блондин. Голубоглаз, румян. Рядом с Воронцовым он кажется тонким, даже хрупким и обманчиво высоким. Совсем мальчик. Но молодцеват, глядит орлом. Голова работает быстро, за словом в карман не полезет...
Агарков всех крупнее. Смуглолиц. Красивые волосы закидывает назад. Черные глаза с южной поволокой. Он из Новороссийска. Рыбак в пятом колене. Нетороплив, рассудителен, добродушен. Говорят, очень силен физически...
Вот они сидят: тройка лучших из лучших. А лететь двоим. Как сказать?
- Ну, как идут дела? - с улыбкой спрашивает Главный. - Как корабль? Давайте, критикуйте, лететь вам, не мне.
- Отличная машина! - радостно сообщает Раздолин.
- Корабль хороший, - говорит Воронцов.
- Мне не нравится пенопласт, - помолчав добавляет Агарков.
- Почему? - Главный удивленно взглянул поверх очков.
- Кругом белый пенопласт. Я понимаю, нужны мягкие стенки, чтобы в невесомости не стукнуться... Ну и при посадках... Но почему белый? Как в больнице...
- Брось придираться, - перебивает Раздолин, - какое это имеет значение...
- Пусть, пусть придирается. - Семен Трофимович кивает головой. - Не день, не два лететь - месяцы. Белый - действительно цвет суховатый.
Надо сделать что-нибудь этакое, домашнее... И он записывает каракулями на перекидном календаре:
«Пенопласт!!»
- Степан Трофимович, - говорит Воронцов, - у иллюминатора поставили откидывающийся кронштейн для киноаппарата. Это удобно. Но аппарат крепится к нему намертво. Там бы шаровой шарнир с зажимом...
- Хорошо, - говорит Главный и опять помечает в календаре.
- У меня все, - официально, по-военному говорит Воронцов.
- Та-ак. - Главный оглядывает их. Как сказать? - У меня неприятные для вас новости, товарищи...
Все трое сразу подумали об одном.
«Не полетим!» - Раздолин.
«Старт откладывается» - Воронцов.
«Зря готовились» - Агарков.
Степан Трофимович замолчал, и все трое тоже молчат, ждут.
- Астрономы не дают погоды. В июле и последующие месяцы возможно резкое увеличение активности Солнца. Та биозащита, которая стоит на «Марсе», может не справиться... Это все, правда, предположения. Вполне возможно, что ничего и не будет, предсказать тут трудно... Возможно, что доза радиации на борту превысит допустимую. Не намного, но превысит. Для жизни опасности нет, для здоровья - может быть, и есть. Вы должны это знать. Ваш полет - не пустое задание летчика. Вы имеете право отказаться... Трое молчат.
- Я готов лететь, - наконец, твердо говорит Раздолин.
- Степан Трофимович, - медленно начал Агарков, не глядя на Главного, - вот вы сами говорите: может, будет, может, нет, может, дождик, может, снег. А лететь надо. Марс не Луна. Если бы можно было отложить полет на несколько месяцев, ну переждать, что ли, тогда другое дело. Что ж, теперь следующего противостояния дожидаться? Риск есть риск. А где его нету? Хамсу ловить - и то риск. Как, ребята? - он обернулся к Воронцову, - Я думаю, летим. А если...
- Я не полечу, - перебивает Анатолия Воронцов.
- Как не полетишь? - не с удивлением, а скорее со страхом спрашивает Раздолин.
- А вот так не полечу. - Рыжие глаза Воронцова уперлись в зрачки Андрея.
- Ты боишься? - Раздолин напрягся как струна. Главный под очками сощурил глаза. Вертит в руках толстый красный карандаш.
- Боюсь... Помню, как пустили слух, что Титов заболел лучевкой. Он лежал с ангиной и не мог приехать на какое-то заседание, а старухи в очередях жалели Германа. Я хорошо помню, что тогда говорили... Но это была глупость. А тут?! Кто летит? Раздолин? Воронцов? Ерунда! На Марс летит Советский Союз! И если что случится, то не о нас же речь в конце концов... Да что говорить, - Воронцов махнул рукой, - все ясно... Степан Трофимыч, - он обернулся к Главному, - надо что-то сделать... Я, конечно, не знаю, возможно ли это, но... Главный щурится, играет карандашом.
- Мы усиливаем экраны биозащиты, - говорит он. - Усиливаем за счет веса полезной нагрузки корабля. Иного выхода, учитывая сроки, нет. Поэтому полетят не трое, а двое...
- Три молодых, красивых, очень серьезных лица. «Воронцов полетит обязательно», - думает Главный.
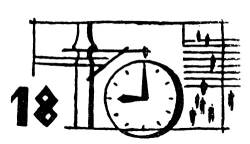
Прозрачное зябкое утро. К проходной идут люди. Если взглянуть сверху, увидишь, как пролегли черные нитки пешеходов, узелком перевязанные в маленьком домике проходной. Подошел автобус, красненький жучок, и посыпались из него люди. И из передней двери и из задней, над которой висит пугающая своей безысходностью табличка: «Нет выхода». Ближе к забору, справа от проходной, выстраивается шеренга автомобилей. Не так много. Десятка два. В основном «Москвичи». Вот медленно и аккуратно встает в автомобильный строй «Волга» Бахрушина. Бахрушин легко выпрыгивает из машины. В этот момент с ревом и ядовитым синим дымом рядом с «Волгой» тормозит мотоцикл Редькина.
- Здравствуйте, Виктор Борисович, - весело говорит Игорь, снимая очки.
- Добрый день. - Бахрушин запирает дверцу «Волги». - У вас вид отважного гонщика.
- Я не отважный, я несчастный. Мне, чтоб добраться, нужно делать четыре пересадки. Я ведь живу у черта на рогах - Живописная улица.
- Это где же? - с интересом спрашивает Бахрушин.
- От химкомбината на автобусе номер сто до конца. Это уже близко от советско-афганской границы... Они подстраиваются в одну из коротких, быстро двигающихся очередей, вращающих турникеты проходной, словно речной поток лопатки гидротурбины. За проходной начатый разговор продолжается.
- А почему бы вам не обменяться поближе к институту? - говорит Бахрушин. - Многие, я слышал, меняются...
- Да, меняются, я знаю... Но мамина школа рядом с нашим домом. Тогда ей придется ездить...
- Она учительница?
- Да, русского языка.
- Но ведь и тут тоже много школ.
- Она работает в школе-интернате для слепых детей. Она не уйдет.
- А ваш отец?
- Его убили. Десятого мая... Есть такой городок в Чехословакии - Ческа Липа... Помолчали.
«Как мало мы знаем друг о друге, - думает Бахрушин. - Редькин работает у меня четыре года, и я всегда думал почему-то, что у него большая, шумная такая семья».
- А вы один у матери? - спросил он.
- Да нет, - виновато улыбнулся Игорь, - еще сестра и брат. Сестра замужем, уехала в Караганду, а брат - технолог на химкомбинате.
«Некогда просто поговорить с человеком, - думает Бахрушин. - Это ужасно, что мы говорим только о делах». И он спросил:
- Сегодня будете пускать ТДУ?
- Да, хотим попробовать.
- Я смотрел ваши цифры, не торопитесь. И осторожно...
- Да она смирная...
- Позвоните, когда будете пускать.
- Хорошо.
И они разошлись. Бахрушин - к себе в кабинет, Редькин - на стенд.

Испытательный стенд находился в двухэтажном домике и состоял из бетонированного бокса, где устанавливали двигатель, и комнаты с аппаратурой и пультами управления. В боксе сейчас жила ТДУ - тормозная двигательная установка Редькина и Маевского, в комнате - люди. Бокс соединялся с комнатой массивной дверью. Как в бомбоубежище. Два окошечка с толстыми небьющимися стеклами позволяли наблюдать двигатель в работе. В комнате рядом с окошечками большой пульт с кнопками, тумблерами, циферблатами приборов. Карандаш на веревочке. Внизу блестящие никелем штурвалы главных клапанов.
Над головой лампы дневного света. Другие лампы освещают приборную стенку - десятки циферблатов и ряд высоких стеклянных трубок ртутных манометров. На стенку нацелен фотоаппарат. Часто запуски длятся всего несколько секунд, и, конечно, никто никогда не успеет записать показания всех приборов. Поэтому стенку фотографируют.
В углу рваное по сварному шву сопло и какие-то ржавые железяки. Лежат с Нового года. К майским праздникам будет во всех лабораториях повальная уборка, и сопло снесут на свалку. Снесут много и нужных вещей. Потом инженеры из разных лабораторий будут ходить на свалку «ковыряться», искать, кому что надо. После 1 Мая и 7 ноября на свалке что хочешь можно найти, только не зевай...
В боксе опытная тормозная двигательная установка, чудовищное переплетение трубопроводов и кабелей разных диаметров и цветов, грозди клапанов и реле, динамометры, замеряющие тягу.
Сегодня первые испытания ТДУ. Вернее, не первые, конечно. Уже не раз проводили холодные проливки, сверяли цифры расхода горючего и окислителя. Пока все сходилось хорошо. (Редькин говорил: отлично!) Сегодня первые огневые испытания. Двигатель должен «запуститься» и проработать положенное ему время. Если все будет хорошо, можно попробовать несколько раз остановить его и запустить снова: посмотреть, мягкий ли у него запуск. А может быть, даже испытать на разных режимах.
На корабле, который должен стартовать на Марс, ТДУ уже есть. ТДУ Егорова. Маевский и Редькин считают ее грубой в управлении. Бахрушин знает, что егоровская ТДУ вовсе не так уж груба и хорошо отработана, но убежден, что истина рождается в опоре. Поэтому он включил работу по новой, мягкой ТДУ в план лаборатории. Степан Трофимович, утверждая план на ученом совете, высказался тоже «за». У него были свои тайные мысли.
Его устраивала егоровская ТДУ для Марса. Но ТДУ с мягким режимом нужна была ему для Венеры. Там больше гравитационная постоянная, там грозовые разряды мешают работать радиоиндикаторам посадки, там облака снижают видимость, и еще черт знает, что там есть. Вот там ему нужна будет мягкая ТДУ, и было бы хорошо иметь ее загодя. Коль скоро она будет, можно бросить лабораторию Бахрушина сразу после Марса на ориентацию обсерватории-спутника на восемь человек, который должен пойти в производство через год, в декабре. Разумеется, всего этого Степан Трофимович Бахрушину не сказал, но своей находке в плане был искренне рад и даже про себя помянул добрым словом этих двух ребят, фамилии которых стояли в графе «исполнители». Вот так родилась ТДУ Редькина и Маевского. Вернее, не родилась, а рождалась.

Редькин пришел на стенд ровно в девять. Перевешивая номерок на табельной доске, он увидел, что Маевский уже на месте. Юрка сидел с линейкой на круглом табурете у пульта в неудобной, скрюченной позе и что-то считал.
- Петух встает рано, а злодей еще раньше, - сказал Игорь вместо «здравствуй». Маевский промолчал.
- Отсекатели проверял? - спросил Игорь. Маевский замотал головой.
Редькин приоткрыл тяжелую дверь и вошел в бокс. На установке работало двое механиков: Петька Сокол (фамилия его была Соколов) и Михалыч. Поздоровались за руку.
- Ну вот, Игорь все знает, не даст соврать, - продолжал Михалыч прерванный разговор. - Скажи, адмирал ведь больше получает, чем генерал, а? И пенсия у них больше!
- А шут их знает, - ответил Игорь. - А ты что беспокоишься? Или тебя обсчитали?
- Зачем, - скромно потупился Михалыч, - просто интересно...
- Так ведь ты уже и букву «А» и букву «Г» окончил, сам должен знать, - поддразнил Петька, почуяв в Игоре союзника.
- Действительно, - поддержал Редькин, - ты уж где сейчас? Поди, на «Ш».
- До «Ш» далеко, - спокойно отвечал Михалыч. - Вчера начал «Земля - Индейцы», семнадцатый том... Михалыч был человеком удивительным. Начал он здесь работать задолго до войны. При нем шли испытания первых советских ракет. Он запускал первый жидкостный двигатель на кислороде. Сам вез для него из города жидкий кислород. Дорогу к полигону размыло осенними дождями, и телега, в которой стояли дьюары, застряла в грязи. А кислород парил, его становилось все меньше и меньше. Тогда он выпряг лошадей, сделал из оглобель подобие носилок, и они вчетвером перетаскали дьюары по холодной, густой, как масло, грязи. «Гляди, кипяток несут», - кричали деревенские ребятишки, глядя на белый кислородный пар. Э, да разве можно все пересказать... Многие, кого помнил он совсем еще мальчишками, стали докторами наук, академиками, большими людьми, запросто вхожими в самые высокие кабинеты. Главный, где бы ни встретились они, кто бы ни стоял рядом, здоровался с Михалычем первым. И за руку! Он был в бригаде сборщиков первого спутника, за что получил орден. Помимо уникальных золотых рук, Михалыч имел голову удивительной емкости, вмещавшую массу различных сведений, как нужных ему, так и совершенно бесполезных. Он, например, помнил число «пи» до двенадцатого знака, точно знал последние изменения курса иностранной валюты, объяснял, как происходит спаривание у китов. Последней его затеей была покупка Большой советской энциклопедии, которую он читал том за томом подряд.
Михалыч был хитрющий и опытнейший механик, друг всех кладовщиков и снабженцев. Он мог достать все, наивыгоднейшим образом составить расписание опытов и провести два эксперимента, где другие едва успевали сделать один. Инженеры переманивали его друг у друга, и борьба за Михалыча заходила подчас так далеко, что в спор должен был вмешиваться сам Бахрушин.
Петька Сокол тоже был когда-то первоклассным механиком, но за последнее время, как говорил Михалыч, «сноровистость утерял».
Два года назад Петьку избрали секретарем комитета комсомола всего предприятия. Должность освобожденная, и Петька со стенда ушел. Работал он хорошо. В райкоме считался одним из лучших секретарей. Чуть было не уехал на фестиваль даже. На следующий год Петьку снова избрали. Тут он возгордился, приобрел сталь в голосе, любил постращать вызовом на комитет, приспособился говорить на собраниях лихие речи. Петька так свыкся со своим положением «вождя» и всеми вытекающими отсюда привилегиями, что даже помыслить себя не мог ни в каком другом качестве. Поэтому, когда на последней комсомольской конференции его с треском «прокатили», он даже не сразу понял, что произошло. Да, его провалили. Аня Григорьева, комсорг из сектора Егорова, взяла тогда слово и «выдала» ему. Зал сидел - муха летит и то слышно. Потом встал Залесский (уж от него Петька никак не ожидал), потом Квашнин. А перед самым перерывом еще Пахомов из парткома... Почему-то Петька запомнил одну очень обидную его фразу: «Часто живую комсомольскую работу Соколов подменяет фразой и администрированием». Так и сказал: «подменяет фразой». Зал аплодировал, и тогда Петька понял, что его провалили. Ничего, однако, не оставалось делать, как возвращаться в лабораторию на стенд. И Петька вернулся. Все это было осенью. Месяца три Петька ходил сам не свой, смотреть людям в глаза было ему стыдно, словно он совершил какую подлость. Если где смеялись, Петьке казалось - над ним. Если молчали, казалось - бойкотируют, Он совсем извелся.
В чувство его привел Михалыч. Взял в напарники и «натаскал» на новую аппаратуру, которая появилась, пока Петька «сидел в верхах».
Сейчас они вдвоем кончали проверку тормозной установки перед запуском.
- Как отсекатели? - спросил Редькин.
- А что отсекатели? - в свою очередь спросил Петька.
- Смотрели?
- Все смотрели.
- До обеда пустим?
- Не торопись, - сказал Михалыч. - К обеду отладим все, а тогда и пустим...
- Мы, как слоны: два часа - бросаем бревна, обед! - вставил Петька.
- Ты уж помолчи, «слон», - едко сказал Михалыч.
- А может, до обеда? А то завтра Егоров отнимет стенд... - не унимался Игорь.
- Погуляй, - ласково сказал Михалыч, - не мешай работать...
Игорь понял: Михалыч до обеда ТДУ не пустит, - и вышел из бокса...
Михалыч не упрямился. Он видел за свою жизнь сотни ракетных движков и знал их нравы лучше другого инженера. Тормозная двигательная установка Редькина и Маевского ему нравилась. Она была красива той неповторимой, понятной далеко не каждому красотой машины, которая идет не от внешнего вида, а от внутренней гармонии и совершенства. Михалыч чувствовал, что она стоит на границе возможного сегодня, чувствовал ее необычность. Поэтому он и не торопился. Если этот двигатель погорит, ему будет его жаль, хотя он чувствовал по многим мелким признакам, что на «Марс» он, конечно, не пойдет...
- Вот как ты думаешь, Петро, - спрашивает Михалыч, подтягивая ключом соединение одного из клапанов, - есть разумная жизнь на Марсе?
- Это знать, бесспорно, интересно, - глубокомысленно говорит Петька, - но еще интереснее: если есть, то лучше или хуже, чем у нас?